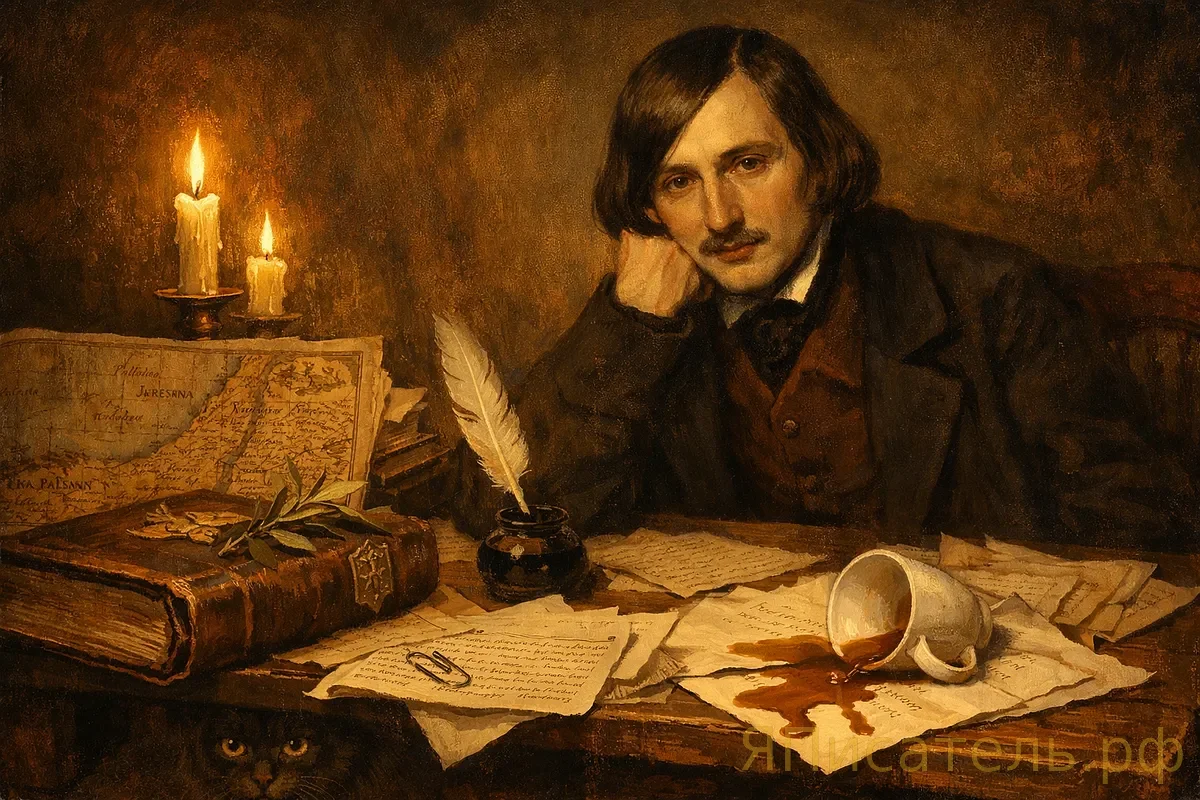Обыкновенная история: Двадцать лет спустя
Creative continuation of a classic
This is an artistic fantasy inspired by «Обыкновенная история» by Иван Александрович Гончаров. How might the story have continued if the author had decided to extend it?
Original excerpt
Александр хотел было возразить, но дядя не дал ему опомниться. Он схватил его за руку и почти насильно вытащил из комнаты. «Едем, едем! — повторял он, — пора!» Александр покорился. Он шёл как во сне. Он был поражён, уничтожен, но не совсем убит. В груди его вспыхивала по временам какая-то смутная надежда... А может быть, эта надежда была только привычка жить, привычка ожидать от будущего чего-то неопределённого, хорошего, счастливого.
Continuation
Пётр Иванович Адуев стоял у окна своего петербургского кабинета и смотрел на Неву. Двадцать лет прошло с тех пор, как он с такой методической настойчивостью переделал романтического племянника в практического человека. Теперь ему самому минуло шестьдесят, и странная тоска, которой он никогда не знал прежде, начинала посещать его по вечерам.
Александр Фёдорыч Адуев, некогда восторженный юноша, а ныне статский советник и владелец доходных домов, должен был приехать сегодня с визитом. Дядя и племянник не виделись пять лет — оба были слишком заняты делами, чтобы тратить время на родственные сантименты.
— Барин, Александр Фёдорыч пожаловали, — доложил слуга.
Пётр Иванович оторвался от окна и обернулся. В дверях стоял полный, солидный господин с бакенбардами, в которых уже проступала седина. В его фигуре не осталось ничего от того бледного, восторженного юноши, который двадцать лет назад ворвался в этот самый кабинет с тетрадкой стихов и пылкими речами о любви, дружбе и искусстве.
— А, Александр! — сказал Пётр Иванович, протягивая руку. — Входи, садись. Ну что, как дела?
— Превосходно, дядюшка, — отвечал Александр, усаживаясь в кресло с видом человека, привыкшего к комфорту. — Третий дом достроил на Литейной. Жильцы уже въехали. Доход — восемь тысяч годовых чистыми.
Пётр Иванович кивнул с одобрением, но что-то в глубине его глаз дрогнуло.
— Молодец, — произнёс он. — А как Лизавета Александровна? Здорова ли?
— Благодарствую. Супруга здорова. Дети растут. Старший уже в гимназии, подаёт надежды на медицинское поприще.
— Медицинское? — переспросил дядя. — Что ж, дело полезное.
Наступило молчание. Пётр Иванович вдруг почувствовал странное беспокойство. Он смотрел на племянника и видел в нём... себя. Того себя, каким был двадцать лет назад: уверенного, практичного, лишённого всяких иллюзий. Но теперь это зрелище почему-то не радовало его.
— Скажи мне, Александр, — начал он медленно, — ты помнишь, как приехал в Петербург в первый раз?
Александр поморщился.
— Помню, дядюшка. Глупое было время. Я тогда много вздору нёс про чувства, про поэзию... Благодарю вас, что вылечили меня от этой болезни.
— Вылечил... — повторил Пётр Иванович задумчиво. — Да, верно, вылечил.
Он подошёл к бюро и выдвинул ящик. Там, под деловыми бумагами, лежала старая тетрадь в потёртом переплёте.
— Узнаёшь? — спросил он, протягивая её племяннику.
Александр взял тетрадь и раскрыл. На первой странице его собственным почерком, юношеским, порывистым, было выведено: «Стихотворения. Александр Адуев. 1843 год».
— Господи, — пробормотал он, краснея. — Вы сохранили этот вздор?
— Сохранил, — кивнул Пётр Иванович. — Сам не знаю зачем. Может быть, хотел когда-нибудь показать тебе, чтобы посмеяться вместе.
Александр перелистывал страницы. Его лицо менялось. Сначала на нём было написано смущение, потом — ирония, но постепенно что-то иное проступило в его чертах.
— «К ней», — прочитал он вслух. — «Когда твой взор, полный неги и огня...» Боже, как я мог писать такое!
— А ты перечитай внимательнее, — сказал Пётр Иванович странным голосом.
Александр поднял глаза на дядю.
— Зачем?
— Затем, что я вчера перечитал. И знаешь, что я понял?
— Что?
Пётр Иванович отвернулся к окну.
— Что в этих стихах была жизнь. Глупая, наивная, смешная — но жизнь. А в моих бухгалтерских книгах и твоих доходных домах — только цифры.
Александр захлопнул тетрадь.
— Дядюшка, вы нездоровы? С вами всё в порядке? Это на вас не похоже.
— Не похоже, — согласился Пётр Иванович. — Потому что я всю жизнь был похож только на самого себя. И превратил тебя в свою копию. А теперь думаю: а что, если это была ошибка?
— Какая ошибка? — Александр встал, начиная тревожиться. — Вы дали мне дельные советы. Благодаря вам я стал человеком. У меня положение в обществе, капитал, семья...
— И пустота, — докончил дядя. — Разве нет?
Александр замолчал. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только тиканьем английских часов на камине.
— Я... — начал Александр и осёкся.
— Ты хочешь сказать, что счастлив? — спросил Пётр Иванович, оборачиваясь. — Скажи мне честно, как родному человеку: ты счастлив?
Александр сел обратно в кресло. Его солидное, благополучное лицо вдруг осунулось.
— Я... не знаю, — признался он наконец. — Я никогда не задавал себе этого вопроса. Вы же сами учили меня, что счастье — выдумка романтиков.
— Учил, — кивнул Пётр Иванович. — А теперь, на старости лет, начинаю сомневаться. Знаешь, что случилось на прошлой неделе? Я встретил Лизавету Александровну — тётку твою, мою жену...
— Как встретили? Вы же живёте вместе.
— В том-то и дело, что живём вместе, а видимся редко. Она в своих комнатах, я в своих. Встречаемся за обедом, говорим о погоде и хозяйстве. И вот на прошлой неделе я зашёл к ней вечером — просто так, без дела — и застал её плачущей над письмами.
— Над какими письмами?
— Над моими. Которые я писал ей, когда мы были женихом и невестой. Тридцать пять лет назад. Оказывается, она сохранила их все. И плакала, перечитывая.
Александр молчал.
— Я спросил её: «Что ты плачешь, Лиза?» — продолжал Пётр Иванович. — Знаешь, что она ответила? «Плачу о том молодом человеке, который писал эти письма. Куда он делся, Пётр?» И я не нашёлся, что ответить.
За окном начинало темнеть. Слуга внёс свечи и бесшумно удалился.
— Дядюшка, — сказал наконец Александр, — к чему вы мне всё это рассказываете?
— К тому, что ты ещё молод. Тебе сорок, у тебя половина жизни впереди. Может быть, ещё не поздно...
— Не поздно — что?
Пётр Иванович подошёл к племяннику и положил руку ему на плечо.
— Не поздно вспомнить, кем ты был. Не тем наивным глупцом, которым я тебя выставлял — а человеком, способным чувствовать. Любить. Мечтать.
Александр резко встал.
— Это невозможно, — сказал он. — Я не могу вернуться назад. Я теперь другой человек.
— Другой? — переспросил дядя. — Или просто спрятавшийся за маской? Я ведь вижу, Александр. Я вижу, как ты слушал, когда третьего дня на вечере у Карасёвых молодой поэт читал свои стихи. Все зевали, а ты... ты смотрел так, будто что-то в тебе откликалось.
Александр отвёл глаза.
— Это были посредственные стихи.
— Может быть. Но дело не в стихах. Дело в том, что в тебе ещё что-то осталось. Я убил в себе это давно, но в тебе — не до конца.
Племянник подошёл к окну и встал рядом с дядей. Оба смотрели на вечерний Петербург: на фонари, зажигавшиеся вдоль набережной, на силуэты прохожих, на тёмную воду Невы.
— Знаете, дядюшка, — сказал Александр тихо, — иногда по ночам я просыпаюсь и думаю о Наденьке.
— О какой Наденьке?
— О Любецкой. Помните? Моя первая любовь. Та самая, которую вы называли «обыкновенной историей».
— Помню, — кивнул Пётр Иванович. — Она вышла замуж за графа... как его...
— Новинского. Они уехали за границу. Я слышал, она овдовела лет пять назад. Живёт в Ницце.
— И ты думаешь о ней?
Александр усмехнулся горько.
— Не о ней — о том чувстве. О том, как я тогда мог любить — безумно, безоглядно, всем существом. Когда её письма были для меня дороже всех сокровищ мира. Когда одно её слово могло поднять меня на небеса или низвергнуть в ад.
— И ты жалеешь, что утратил эту способность?
— Не знаю, дядюшка. Честно — не знаю. Вы правы были: такая любовь — источник страданий. Но теперь я иногда думаю: а что, если страдание — это тоже жизнь? Что, если, оберегая себя от боли, мы оберегаем себя и от радости?
Пётр Иванович молчал долго. Потом сказал:
— Я расскажу тебе одну вещь. Никому никогда не рассказывал. Когда мне было двадцать пять, я любил одну девушку. По-настоящему, так, как ты любил свою Наденьку. Она была бедна, без связей, без положения. Мой отец запретил мне даже думать о ней. И я послушался. Женился на Лизавете Александровне — она была хорошей партией. И прожил с ней тридцать лет... в благополучии.
— А та девушка?
— Умерла. Через год после моей свадьбы. От чахотки, говорили. Но я всегда думал, что от горя.
Александр посмотрел на дядю. Впервые за все эти годы он видел его таким — не наставником, не ментором, а живым человеком с живой болью.
— Почему вы никогда не говорили мне об этом?
— Потому что учил тебя тому, во что сам хотел верить. Что чувства — химера, что практичность — единственный путь. Я не мог признаться даже себе, что всю жизнь бежал от призрака той девушки.
Они стояли рядом у окна — два человека, дядя и племянник, учитель и ученик. Но сейчас было непонятно, кто из них кому урок преподаёт.
— Что же делать, дядюшка? — спросил Александр. — Нельзя же повернуть время вспять.
— Нельзя, — согласился Пётр Иванович. — Но можно не повторять ошибок в будущем. Твой старший сын — ты говоришь, он хочет быть врачом?
— Да.
— А ты бы хотел, чтобы он занялся твоими доходными домами?
Александр помолчал.
— Я бы хотел, чтобы он был счастлив, — сказал он наконец.
— Вот видишь, — улыбнулся дядя. — Ты уже не совсем пропащий человек.
В дверь постучали. Вошла Лизавета Александровна — постаревшая, но всё ещё красивая женщина с печальными глазами.
— Пётр, — сказала она удивлённо, — ты здесь? Я думала, ты в клубе.
— Нет, душа моя, — отвечал Пётр Иванович. — Я здесь, с Александром. Присядь с нами.
Она села, всё ещё не веря своим ушам. «Душа моя» — этих слов она не слышала от мужа, наверное, лет двадцать.
— Мы говорили о жизни, — сказал Пётр Иванович. — О том, что она обыкновенна — и необыкновенна одновременно.
Лизавета Александровна посмотрела на мужа, потом на племянника. Что-то изменилось в этом кабинете, она чувствовала это, хотя не могла объяснить.
— Александр, — сказала она, — ты останешься ужинать?
— Останусь, тётушка, — кивнул тот. — С удовольствием.
И впервые за много лет ужин в доме Адуевых прошёл не в молчании. Они говорили — не о делах, не о процентах, не о погоде — а о прошлом, о молодости, о мечтах, которые когда-то имели и потеряли.
Когда Александр уходил, было уже за полночь. На пороге он обернулся.
— Дядюшка, — сказал он, — можно я возьму ту тетрадь? Со стихами?
Пётр Иванович молча протянул ему потёртый томик.
— Возьми. Может, прочтёшь сыну. Пусть знает, что его отец когда-то умел мечтать.
Александр сжал тетрадь в руках и вышел в петербургскую ночь. Он шёл по набережной, и ему казалось, что он молод, что впереди целая жизнь, что всё ещё возможно.
Это была иллюзия, конечно. Обыкновенная иллюзия, каких много в жизни каждого человека. Но иногда именно такие иллюзии делают нашу обыкновенную историю — необыкновенной.
Paste this code into your website HTML to embed this content.