Григорий стоял на пороге родного куреня, держа на руках сына. Мишатка прижимался к отцовской шинели, не понимая ещё, что этот измождённый, седой человек с мёртвыми глазами — его отец. Дон нёс свои воды мимо, равнодушный к человеческому горю, как нёс их веками.
Первым, кто увидел Григория, был старый Пантелей Прокофьевич... Нет, не Пантелей — того уже три года как схоронили. Первой увидела Дуняшка, выбежавшая на крыльцо с подойником. Она остановилась как вкопанная, и молоко плеснуло через край, белыми каплями упав на чёрную весеннюю землю.
— Гриша... — прошептала она, и подойник выпал из её рук, загремев по ступеням.
Мишкин Кошевой появился в дверях, и лицо его окаменело. Рука непроизвольно потянулась к поясу, где когда-то висел наган, но пояс был пуст — мирное время.
— Здорово, Мишка, — сказал Григорий хрипло. — Не стреляй. Настрелялся уже.
Они стояли друг против друга — два человека, которых война развела по разные стороны, а судьба свела под одной крышей. Между ними была кровь брата Петра, была ненависть, были годы, когда каждый из них мог убить другого и считал бы это правильным.
— Сдаваться пришёл? — спросил Кошевой, и в голосе его не было торжества, только усталость.
— Домой пришёл. К сыну.
Дуняшка бросилась к брату, обняла его, заплакала. Григорий стоял, не выпуская Мишатку, и смотрел поверх сестриной головы на Дон. Река сверкала под весенним солнцем, и где-то далеко, за излучиной, кричали чибисы.
— В район надо сообщить, — сказал Кошевой. — Сам понимаешь.
— Понимаю.
— Мишка! — Дуняшка обернулась к мужу, и в глазах её была мольба. — Мишка, он же брат мне! Он же... Гляди на него, какой он! Куда ему бегать? Отбегался.
Кошевой молчал. Он смотрел на Григория — на его седую голову, на шрам через всё лицо, на руки, которые когда-то рубили таких, как он, Кошевой, а теперь бережно держали ребёнка.
— Посля обеда поедем, — сказал он наконец. — Дай человеку поесть.
Григорий опустил сына на землю, и Мишатка тут же спрятался за отцовскую ногу, с опаской глядя на незнакомых людей.
— Это тётка твоя, — сказал Григорий. — Дуняшка. А это... — он помедлил, — это дядька Михаил.
— Который на лошади? — спросил Мишатка.
— Какой лошади?
— Мамка говорила, что дядька Михаил на лошади приедет и тебя заберёт.
Григорий ничего не ответил. Он только провёл рукой по голове сына — жест, который повторял сотни раз в последние дни, будто не верил, что мальчик рядом, что он настоящий.
Они вошли в курень. Григорий остановился на пороге, оглядывая родные стены. Всё изменилось и ничего не изменилось. Те же полати, та же печь, тот же запах — дым, кизяк, что-то неуловимо родное, от чего защемило в груди.
— Садись, — сказала Дуняшка, — я борща налью. Остался ещё вчерашний.
Григорий сел за стол, посадил Мишатку рядом. Мальчик прижался к отцу, не сводя глаз с Кошевого, который стоял у окна, сложив руки на груди.
— Где Аксинью схоронил? — спросил Кошевой.
Григорий вздрогнул. Он не ожидал этого вопроса — не сейчас, не от него.
— В степи. Где настигли.
— Крест поставил?
— Поставил.
Кошевой кивнул и отвернулся к окну. За окном жила своей жизнью станица — кричали петухи, где-то стучал молот, женский голос звал Ваньку обедать.
— Как ты её любил... — сказал Кошевой тихо, почти про себя. — Всю жизнь её любил. Из-за неё, может, всё и случилось.
— Может, — согласился Григорий.
Дуняшка поставила перед ним миску с борщом, положила хлеб. Григорий взял ложку, но есть не мог — руки дрожали.
— Ешь, — сказала сестра. — Ешь, Гриша. Потом поговорим.
Мишатка потянулся к хлебу, и Григорий отломил ему кусок. Мальчик стал есть жадно, обеими руками запихивая хлеб в рот. Видно было, что последние дни он голодал.
— Мать ему скажи, — вдруг произнёс Кошевой. — Ильинична ещё жива была, когда... когда Наталья померла. Всё тебя ждала. До последнего ждала.
— Знаю.
— Откуда знаешь?
— Снилась она мне. Каждую ночь снилась. Стоит у ворот и смотрит. Ничего не говорит, просто смотрит.
Дуняшка отвернулась, пряча слёзы. Она вспомнила, как мать умирала — тихо, без жалоб, только всё спрашивала: «Гриша не приходил?» И даже в бреду, в последний час, шептала его имя.
— После обеда поедем, — повторил Кошевой. — В район. Там решат, что с тобой делать.
— А что со мной делать? — Григорий поднял на него глаза, и Кошевой впервые увидел в них не злобу, не ненависть — пустоту. — Расстреляют — туда и дорога. Посадят — значит, посадят. Я своё отжил, Мишка. Мне только мальца надо пристроить. Дуняшка возьмёт?
— Возьму, — сказала Дуняшка. — Конечно, возьму. Он же Мелехов. Он же наш.
Мишатка перестал жевать и посмотрел на отца.
— Ты куда, батя?
— Ехать мне надо, сынок. Далеко ехать.
— А я?
— А ты тут останешься. С тёткой Дуняшкой. Она добрая, она тебя не обидит.
— Не хочу! — Мишатка вцепился в отцовский рукав. — Не хочу без тебя! Ты обещал! Ты говорил, что домой едем!
— Это и есть дом, сынок. Твой дом.
Григорий обнял мальчика, прижал к себе. Плечи его затряслись, и Дуняшка с ужасом поняла, что брат плачет — впервые за все эти годы, впервые на её памяти. Даже когда хоронили Наталью, он стоял с каменным лицом. Даже когда убили Петра — ни слезинки. А теперь...
Кошевой отвернулся. Ему было неловко видеть эти слёзы — слёзы врага, которого он ненавидел столько лет, и который сейчас был просто сломленным человеком, потерявшим всё.
— Может... — начал он и замолчал.
— Что? — спросила Дуняшка.
— Может, завтра поедем. Пусть отдохнёт.
Григорий поднял голову. Он смотрел на Кошевого, и в глазах его было что-то новое — не благодарность, не надежда, просто понимание.
— Спасибо, Мишка.
— Не за что благодарить. Завтра так завтра.
Кошевой вышел во двор. Дуняшка осталась с братом, гладила его по седой голове, шептала что-то бессвязное, утешительное. Мишатка сидел у отца на коленях, обняв его за шею, и не плакал — он уже разучился плакать за эти месяцы скитаний.
Дон нёс свои воды. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона. Где-то далеко, за хутором, ржала лошадь. Жизнь продолжалась — равнодушная, неостановимая, вечная, как сам Дон.
Григорий Мелехов вернулся домой. Он знал, что завтра его увезут, что, может быть, он никогда больше не увидит этих стен, этой реки, этого неба. Но сейчас — сейчас он был дома. И сын был рядом. И этого было достаточно.
На следующее утро за ним приехали. Григорий поцеловал Мишатку, молча кивнул сестре и пошёл к телеге, не оборачиваясь. Мальчик стоял на крыльце и смотрел вслед, пока телега не скрылась за поворотом дороги.
Дон нёс свои воды на юг, к морю, как нёс их веками, как будет нести ещё много веков — после всех войн, после всех смертей, после всех возвращений и разлук.



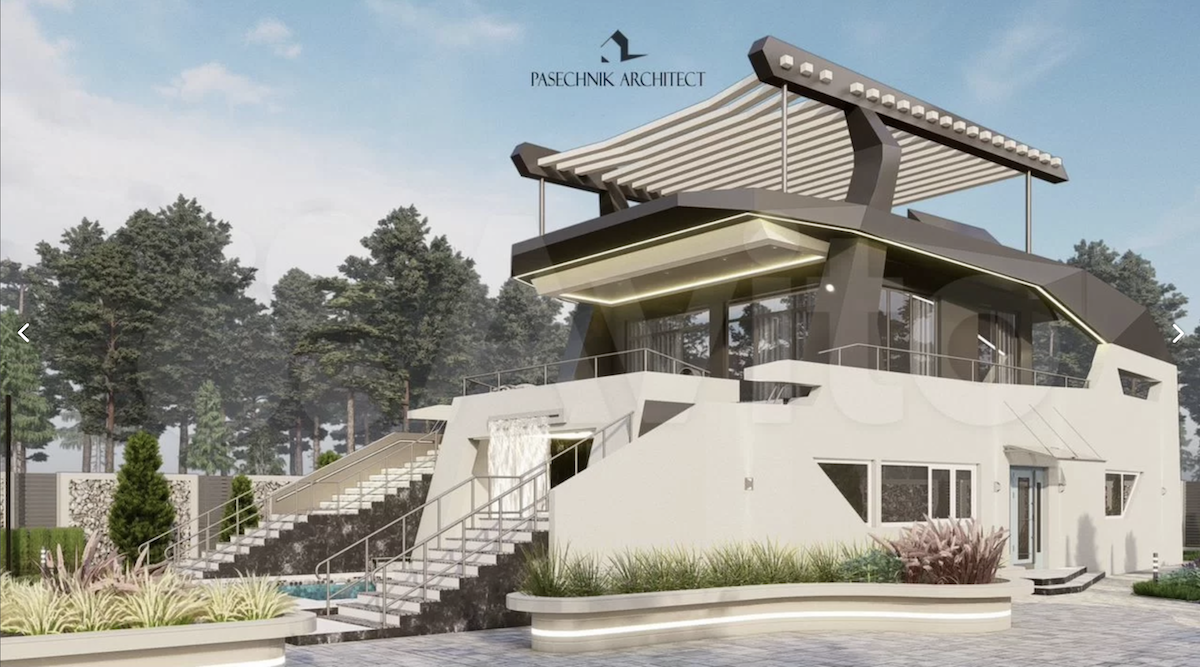



Загрузка комментариев...