Он целовал меня в каждом сне — а потом я встретила его наяву

Каждую ночь — один и тот же сон. Терраса с видом на город огней. Бокал вина, который я никогда не пью. И он — мужчина без лица, чьи губы я знала лучше, чем своё отражение.
«Найди меня», — шептал он перед пробуждением. — «Времени осталось мало».
А потом — телефонный звонок от нотариуса. Я унаследовала квартиру в Праге. От человека, которого никогда не знала.
***
Квартира была на последнем этаже старого дома в Малой Стране. Узкая лестница, скрипучие ступени, запах старых книг и чего-то пряного — корицы? сандала?
Ключ повернулся в замке с мягким щелчком.
Я застыла на пороге.
Терраса. Вид на город огней. Те же перила, тот же угол, то же кресло, в котором я сидела каждую ночь во сне.
— Ты узнала это место, — произнёс голос за моей спиной.
Я развернулась так резко, что едва не упала.
Он стоял в дверях спальни — высокий, тёмноволосый, в чёрной рубашке с закатанными рукавами. И лицо — лицо, которого я никогда не видела в снах, но которое знала. Знала, как знают стихи, выученные в детстве. Знала каждую линию, каждую тень.
— Кто ты?
— Тот, кто звал тебя, — сказал он. — Тот, кто ждал. Тот, кто помнит.
Он шагнул ближе, и воздух между нами загустел.
— Помнит что?
— Всё. — Его глаза — тёмно-зелёные, как бутылочное стекло — смотрели так, будто он видел сквозь меня. — Нашу первую встречу на балу в Вене. Нашу последнюю ночь в Париже. Твоё лицо в момент, когда ты умирала у меня на руках — в третий раз.
***
Его звали Максим. Или так его звали сейчас — он менял имена как перчатки.
Мы сидели на террасе, и он рассказывал историю, в которую невозможно было поверить — но которая объясняла каждый мой сон.
— Мы связаны, — говорил он, и луна отражалась в его бокале с вином. — Не знаю, кто или что нас связало. Может быть, мы были так сильно влюблены в одной из жизней, что эхо докатилось до всех остальных. Может быть, это проклятие. Может быть — благословение.
— Сколько раз мы встречались?
— Семь. — Он отвёл взгляд. — Семь раз я находил тебя. Семь раз мы были вместе. И семь раз...
Он замолчал.
— Я умирала, — закончила я за него. — В снах — я всегда падаю в темноту в конце.
— Не ты одна. — Он закатал рукав, и я увидела шрамы — белые полоски поперёк запястья, одинаковые, ровные. — Семь раз. Я не мог жить без тебя. Буквально.
— Тогда почему ты позвал меня снова? — Мой голос дрожал. — Если каждый раз заканчивается трагедией...
— Потому что в этот раз есть шанс. — Он наклонился ко мне, и я почувствовала жар его тела. — Я искал способ разорвать цикл. Столетиями искал. И нашёл.
***
Он достал из кармана медальон — старый, потемневший от времени. На крышке была выгравирована дата: 1824.
— Год нашей первой встречи, — сказал он. — Внутри — прядь твоих волос. Моих. И капля крови — смешанной.
— Это... ритуал?
— Связь. — Он открыл медальон, и я увидела две пряди — светлую и тёмную, переплетённые навечно. — Каждый раз, когда мы умирали, связь становилась сильнее. Теперь она достаточно крепка, чтобы удержать нас.
— Удержать от чего?
— От смерти.
Он поднялся и протянул мне руку.
— Если ты согласишься — мы проведём ритуал завершения. Замкнём цикл. И тогда... тогда мы сможем состариться вместе. Впервые за двести лет.
— А если откажусь?
Его лицо помрачнело.
— Тогда история повторится. Может быть, через месяц. Может быть, через год. Но финал будет тем же.
***
Я встала. Подошла к нему. Взяла его лицо в ладони — то самое лицо, которого никогда не видела в снах, но которое знала всем телом.
— Покажи мне, — сказала я. — Покажи, что ты помнишь.
Он поцеловал меня — и я вспомнила.
Вена, 1824. Вальс под хрустальной люстрой. Его руки на моей талии, его шёпот на ухо: «Я нашёл тебя наконец».
Париж, 1871. Баррикады, дым, крики. Его лицо в свете пожара, когда он нёс меня через площадь. «Держись, любовь моя. Не уходи».
Москва, 1937. Стук в дверь среди ночи. Его глаза — последнее, что я видела. «Я найду тебя. Обещаю».
И ещё — и ещё — семь жизней, семь смертей, семь обещаний.
Мы оторвались друг от друга, задыхаясь.
— Я помню, — прошептала я. — Всё помню.
***
Ритуал был прост — проще, чем я ожидала. Свечи, медальон, несколько слов на языке, которого я не знала, но который срывался с губ естественно.
И кровь — капля моей, капля его, смешанные в серебряной чаше.
Когда последнее слово растаяло в воздухе, что-то изменилось. Я не могла сказать что — но мир стал... тяжелее. Плотнее. Настоящее.
— Всё? — спросила я.
Максим смотрел на меня с выражением, которого я не видела ни в одном из воспоминаний. Покой. Облегчение. Надежда.
— Теперь мы узнаем.
Он взял меня за руку — и рука была тёплой, живой, настоящей.
За окном Прага мерцала тысячей огней. На террасе шептал ветер.
А впереди была целая жизнь.
Впервые — целая.
***
Эпилог:
Я проснулась от солнца на лице. Рядом спал он — и не исчезал, не растворялся, не превращался в дым.
На тумбочке лежал медальон — теперь пустой.
И записка, которой не было вчера:
«Связь замкнута. Цикл завершён. Живите».
Почерк был незнакомым.
Или... был ли?
Я улыбнулась и прижалась к его плечу.
Некоторые загадки лучше оставить без ответа.



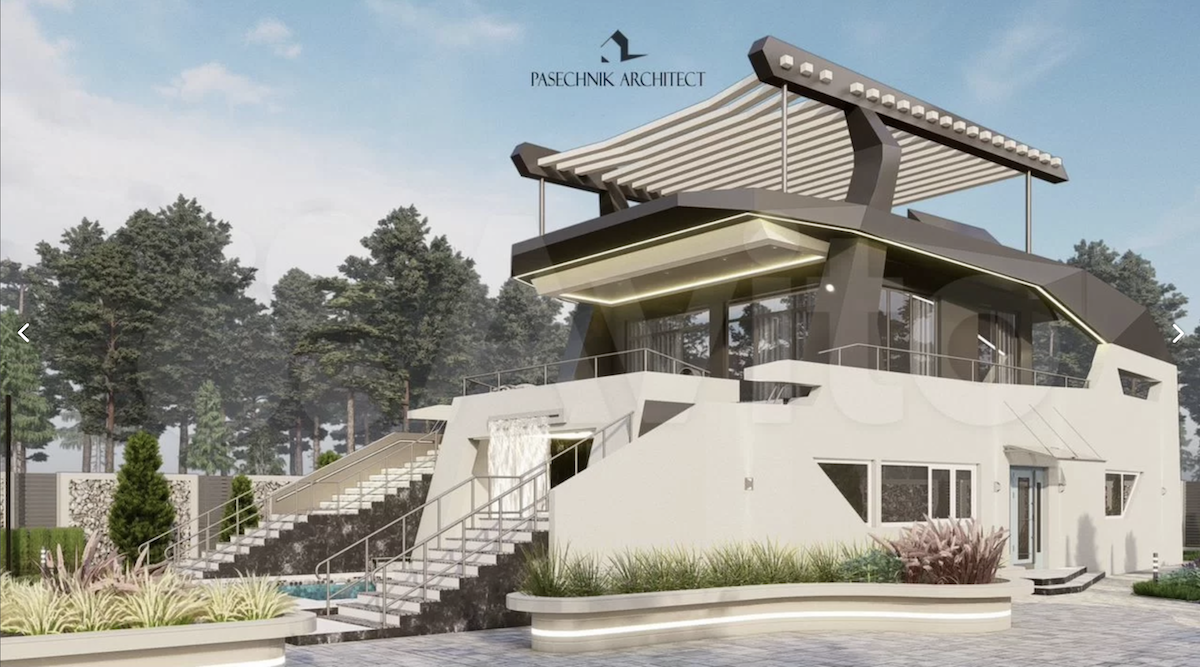

















Загрузка комментариев...