Москва просыпалась. Солнце уже стояло высоко над Патриаршими прудами, и на скамейке, где три дня назад сидели Берлиоз с Бездомным, какой-то старик в потёртом пальто кормил воробьёв хлебными крошками. Он не знал — да и откуда ему было знать? — что именно на этом месте совершилось то, чему нет названия на человеческом языке.
А в подвальчике на Арбате, том самом подвальчике, который так любил мастер, происходило нечто странное. Сквозь закопчённые стёкла пробивался свет — мягкий, золотистый, неземной. И кто-то — кто-то! — сидел за столом мастера и писал. Перо скрипело по бумаге, и буквы возникали сами собой, словно их выводила невидимая рука.
Профессор Иван Николаевич Понырёв — бывший поэт Бездомный — стоял у двери и не решался войти. Он пришёл сюда впервые за тринадцать лет. Тринадцать лет он не вспоминал ни подвальчик, ни мастера, ни Маргариту, ни ту странную весеннюю ночь полнолуния, когда всё это случилось. Он стал профессором истории, женился, развёлся, снова женился и снова развёлся. Он написал три монографии и получил государственную премию. Он был нормальным, абсолютно нормальным советским учёным.
Но каждую весну, в полнолуние, ему снился один и тот же сон.
Человек в белом плаще с кровавым подбоем сидел на плоской каменной террасе, а рядом с ним — другой человек, молодой, с разбитым лицом. И они говорили о чём-то важном, о чём-то таком, что Иван Николаевич никак не мог расслышать, как ни напрягал слух.
А потом он просыпался — и плакал.
— Войдите, — раздался голос из подвальчика. Голос был женский, низкий, с лёгкой хрипотцой. Голос Маргариты.
Иван Николаевич толкнул дверь.
Она сидела за столом мастера — та самая женщина, которую он видел тогда, тринадцать лет назад, в клинике профессора Стравинского. Она ничуть не изменилась. Те же чёрные косы, те же зелёные глаза, та же улыбка — насмешливая и печальная одновременно.
— Здравствуйте, Иванушка, — сказала она. — Я знала, что вы придёте.
— Вы... вы же... — он не мог говорить.
— Умерла? — она засмеялась. — Нет, Иванушка. Я не умерла. Я просто ушла. И он ушёл. Нам подарили покой — помните?
— Помню.
— Так вот, покой — это не смерть. Это... — она задумалась, подбирая слово. — Это другое измерение бытия. Там нет времени. Там нет боли. Там только любовь и творчество. Мастер пишет — он наконец закончил свой роман. Настоящий роман, не тот, обгоревший. И я... я с ним.
— Но почему вы здесь?
Маргарита встала и подошла к окну.
— Потому что кое-что осталось незаконченным. Видите ли, Иванушка, когда мы уходили, мы думали, что всё завершено. Но это не так. Рукописи не горят — вы помните эту фразу?
— Помню.
— Так вот, она правдива. Рукопись мастера — первая, та, что он сжёг — она существует. Она всегда существовала. Она ждала того, кто её прочтёт.
Она протянула Ивану Николаевичу толстую тетрадь в чёрном коленкоровом переплёте.
— Возьмите. Это вам.
Профессор Понырёв взял тетрадь. Руки его дрожали.
— Что мне с ней делать?
— Прочитать. А потом... потом вы сами поймёте.
Она отступила к стене, и свет вокруг неё сгустился, стал плотным, почти осязаемым.
— Прощайте, Иванушка. Мы больше не увидимся. Но знайте — там, где мы сейчас, мы помним о вас. И мастер просил передать: он благодарен вам за то, что вы сохранили его имя.
— Какое имя? — воскликнул Иван Николаевич. — Я до сих пор не знаю его имени!
Маргарита улыбнулась:
— Его имя — в этой рукописи. На последней странице.
И она исчезла.
Иван Николаевич стоял в пустом подвальчике, сжимая в руках тетрадь. Свет померк. Пахло плесенью и старыми книгами. Где-то наверху гудели машины, кричали дети, лаяла собака — обычные звуки обычного московского дня.
Он открыл тетрадь.
«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...»
Профессор читал. Он читал весь день, забыв о лекциях, о заседании кафедры, о том, что жена (третья) ждёт его к ужину. Он читал всю ночь, при свете оплывающей свечи, которую нашёл в ящике стола. Он читал так, как не читал никогда в жизни — ни стихов Пушкина, ни собственных юношеских виршей, ни учёных трактатов.
Это был роман о Понтии Пилате — тот самый роман, который мастер сжёг в камине зимней ночью. Но это был и другой роман — полнее, глубже, страшнее. Здесь была не только казнь бродячего философа на Лысой горе. Здесь была вся история мира — от сотворения до Страшного суда. Здесь был Иешуа, говорящий с Пилатом о природе истины. Здесь был Воланд — но не тот, шутовской и страшный, что явился в Москву, а другой, изначальный, падший ангел, скорбящий о своей судьбе. Здесь была Маргарита — ведьма, королева, любящая женщина. И здесь был мастер — безумец, гений, человек, познавший тайну творчества.
На последней странице Иван Николаевич нашёл то, что искал.
«Я, Михаил Афанасьевич Берлиоз, врач и литератор, закончил этот роман в год тысяча девятьсот двадцать девятый от Рождества Христова, в Москве, в подвальчике на Арбате. Пусть те, кто прочтёт его, знают: я видел истину, и истина сделала меня свободным».
Профессор Понырёв закрыл тетрадь.
Михаил Афанасьевич Берлиоз. Мастер носил ту же фамилию, что и редактор Миша Берлиоз, погибший под трамваем. Однофамильцы? Или...
Иван Николаевич вспомнил слова Воланда: «Аннушка уже разлила масло». Случайность? Судьба? Или — возмездие?
Он не знал. Да и не хотел знать.
Он вышел из подвальчика и побрёл по Арбату. Москва изменилась за тринадцать лет — новые дома, новые вывески, новые люди. Но что-то осталось прежним. Что-то неуловимое, московское — то ли хитрость в глазах прохожих, то ли особый запах весеннего воздуха, то ли эхо прошлого, застрявшее в старых переулках.
У Никитских ворот он остановился. Здесь, на этом самом месте, он когда-то читал свои стихи — плохие, бездарные стихи антирелигиозного содержания. Здесь началась его история.
— Здравствуйте, профессор, — раздался голос за спиной.
Иван Николаевич обернулся.
Перед ним стоял молодой человек — лет двадцати пяти, белокурый, с открытым лицом и странно знакомыми глазами. В руках он держал книгу.
— Вы меня знаете? — спросил профессор.
— Конечно, — улыбнулся молодой человек. — Я читал вашу монографию о Понтии Пилате. Блестящая работа. Скажите, откуда вы так много знаете о нём?
Иван Николаевич посмотрел на книгу в руках молодого человека. Это был его собственный труд — «Прокуратор Иудеи: историческое исследование».
— Мне... мне рассказывали, — произнёс он.
— Кто?
— Один человек. Давно. Его звали... — он запнулся. — Его звали мастер.
Молодой человек кивнул — так, словно ответ его полностью удовлетворил.
— Я так и думал. Знаете, профессор, я тоже пишу роман. О Понтии Пилате.
— Вот как?
— Да. И мне кажется... мне кажется, что я не первый. Что до меня был кто-то другой. Кто-то, кто знал истину.
Иван Николаевич достал из кармана тетрадь в чёрном переплёте.
— Возьмите, — сказал он. — Это вам.
Молодой человек взял тетрадь. Раскрыл. Прочёл первые строки.
И лицо его изменилось.
— Боже мой, — прошептал он. — Боже мой...
— Рукописи не горят, — сказал профессор Понырёв. — Так мне сказали. И теперь я понимаю — это правда.
Он повернулся и пошёл прочь. Молодой человек остался стоять у Никитских ворот, сжимая в руках тетрадь — тетрадь, в которой хранилась тайна, передаваемая из поколения в поколение, от мастера к мастеру, от безумца к безумцу, от того, кто ищет истину, к тому, кто готов её принять.
И где-то там, в вечном покое, в доме у ручья, двое смотрели вниз — на Москву, на Арбат, на маленькую фигурку с тетрадью в руках — и улыбались.
— Видишь? — сказала Маргарита. — Я была права.
— Ты всегда права, — ответил мастер. — Всегда.





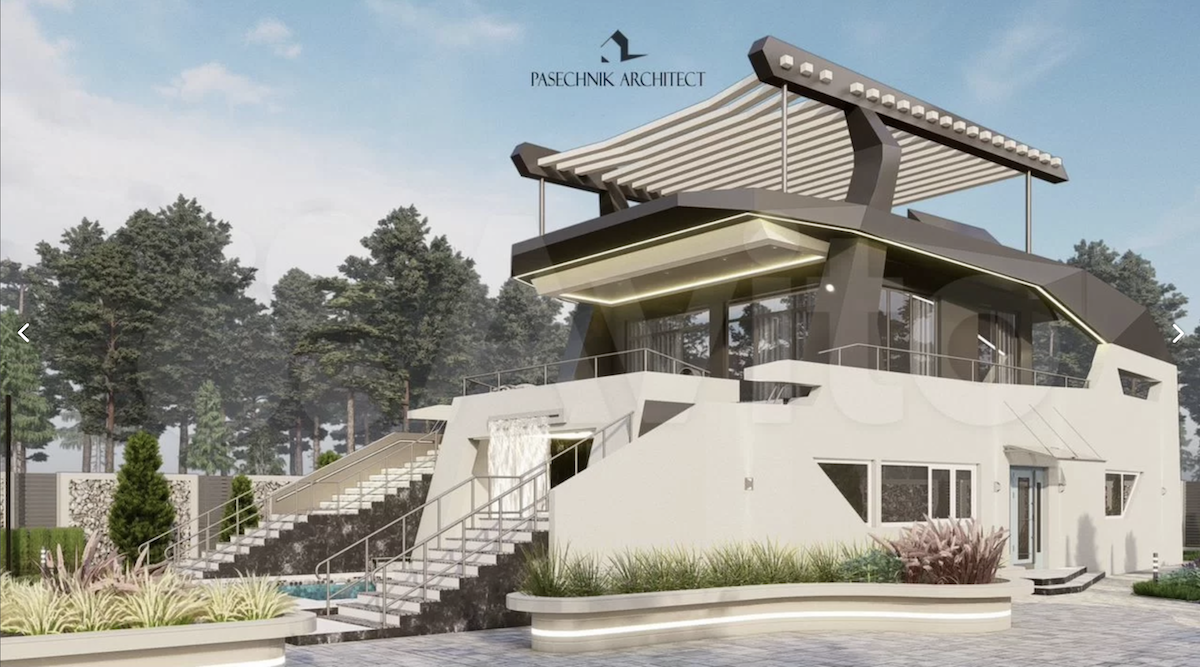







Загрузка комментариев...