Сии записки были обнаружены под алтарём старой деревянной церкви в селе В., что в Малороссии, при разборке оной церкви за ветхостью в году 1842-м. Писаны они рукою неверною, и последние страницы так залиты чем-то тёмным, что разобрать их едва возможно. Приписка на полях гласит: «Сие оставляю, ежели кто найдёт, дабы знали правду о том, что было».
Первая ночь.
Стою посреди церкви, и свечи горят вкруг гроба тем странным светом, какой бывает только в местах, куда заглядывает нечистый. Она лежит там, ведьма проклятая, и лицо её бело, как мел, а губы — красны, словно кровью намазаны.
Я, Хома Брут, философ Киевской бурсы, и я не боюсь. Так говорю себе. Но руки дрожат, и молитва путается на языке, и мнится мне, что из всех углов тёмных глядят на меня глаза — много глаз, бесчисленно.
Она поднялась. Господи, она поднялась из гроба, как живая, и пошла ко мне, и глаза её открыты, хотя мертва, — и в глазах этих такая злоба, такая ненависть, что душа моя заледенела.
Но круг меловой крепок, и она не может переступить. Ходит вкруг, ходит, скрежещет зубами, и ногти её скребут по невидимой стене. И я читаю, читаю молитвы, хотя голос мой слаб и прерывист.
К рассвету она упала в гроб, и всё стихло.
Я жив. Первая ночь позади.
Вторая ночь.
День провёл в тумане каком-то. Пил горелку, но она не брала. Люди сотника смотрят на меня со страхом и жалостью — знают, видно, что ждёт меня, да сказать боятся.
Старый козак, Явтух именем, отвёл меня в сторону и шепнул:
— Беги, философ. Ночью беги, пока не поздно. Третья ночь — она позовёт его.
— Кого? — спросил я, хотя сердце уже знало ответ.
— Вия, — выдохнул старик и перекрестился.
Я не побежал. Не потому, что храбр — потому, что ноги не несут. Что-то держит меня здесь, в этом проклятом селе, будто невидимая цепь приковала.
Вторая ночь была хуже первой. Она не только ходила вкруг меня — она летала. Да, летала в своём гробу, будто в колыбели, и гроб кружился под самым куполом церкви, и сыпалась сверху древняя пыль, и пауки падали мне на голову.
А потом она запела. Голос её был страшен — не человечий голос, а будто сама земля стонала из глубин своих.
И в стены церкви стали стучать. Я слышал — снаружи собирались они. Нечистая сила, вся нечисть малороссийская слеталась на её зов. Стук, скрежет, вой — и сквозь щели в ставнях я видел их тени, уродливые, невозможные.
Но они не могли войти. Ещё не могли.
Третья ночь. (Записано днём, рука еле держит перо.)
Сегодня последняя ночь. Я знаю, что умру. Пишу это, чтобы хоть кто-нибудь узнал правду.
Она приходила ко мне сегодня днём. Не в церкви — в моей каморке. Я не спал, только задремал на минуту — и вот она стоит у двери, молодая и красивая, какой была, верно, до того, как душу продала.
— Хома, — говорит, — зачем ты убил меня?
Я хотел сказать, что не убивал, что она сама, верхом на мне летая, расшиблась о землю — но язык прилип к гортани.
— Я тебя любила, — говорит она. — По-своему любила. А ты — поленом по голове.
И засмеялась — смехом таким, от которого сердце моё едва не остановилось.
— Нынче ночью ты увидишь его. Вия. И он увидит тебя.
И пропала.
Сижу теперь и думаю о жизни своей никчемной. Кто я был? Философ бурсацкий, пьяница, бездельник. Ничего путного не сделал, ничего по себе не оставлю. Разве что эти записки.
А ведь мог бы... Ах, о чём теперь жалеть.
Ночь скоро.
(Здесь почерк становится неразборчивым, но далее следует:)
Они вошли. Все. Вся нечисть, какая есть на белом свете. Церковь полна ими — мохнатыми, крылатыми, ползучими, в шерсти и чешуе, с рогами и хвостами. И все они ищут меня, но не видят — круг держит.
— Приведите Вия! — кричит она. — Приведите Вия!
И они ведут его. Я слышу шаги — тяжёлые, медленные, будто сама земля идёт. И дверь отворяется...
Он весь в чёрной земле. Приземистый, косолапый, будто из корней древесных сплетённый. Весь обвит корнями, и они шевелятся, как живые. А веки его опущены до самой земли, длинные, жилистые, страшные.
— Подымите мне веки! — говорит он голосом, от которого стены церкви дрожат.
Не смотри, говорю себе. Не смотри. Но как не смотреть, когда всё существо твоё охвачено ужасом, когда любопытство и страх сплелись в один узел и тянут, тянут твой взгляд...
Подымают ему веки.
Я вижу его глаза.
Я...
(Здесь записи обрываются. Далее следует приписка другим почерком:)
Философа Хому Брута нашли поутру мёртвым посреди церкви. Волосы его были белы как снег, хотя накануне были русы. Лицо искажено таким ужасом, какого не видели прежде люди.
Панночку же в гробу её не нашли — гроб был пуст.
Церковь ту заколотили и никто более в неё не входил, пока не порешили снести за ветхостью.
А записки сии передаю учёным людям, пусть сами разумеют, что было и чего не было.
Писано козаком Явтухом, который грамоте разумеет, в году 1842-м.
(Ещё ниже, уже третьим почерком:)
Говорят, что по ночам у того места, где стояла церковь, видят иногда тень молодой женщины. И будто бы ищет она кого-то, всё ищет и не может найти.
А в безлунные ночи слышится там тяжёлая поступь — будто идёт кто-то огромный, приземистый, и корни шевелятся у него на теле, как змеи.
И горе тому, кто взглянет в его глаза.
Аминь.




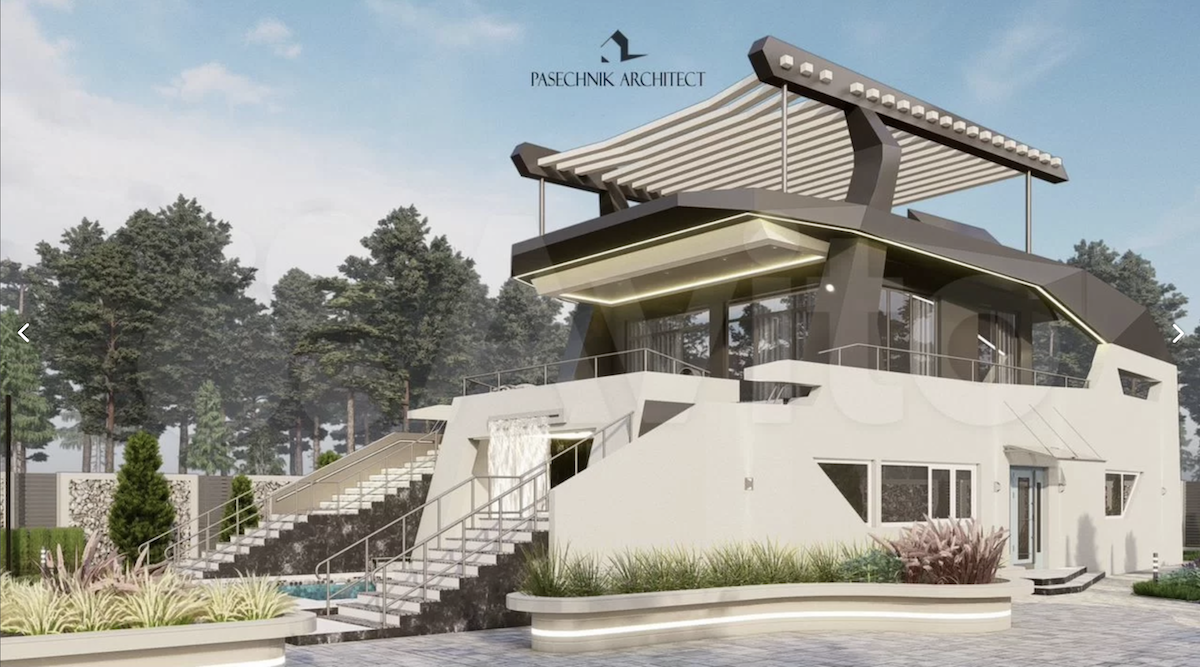





Загрузка комментариев...