Богумил Грабал: человек, который научил нас любить мусор и пиво

Двадцать девять лет назад из окна пражской больницы выпал человек, который кормил голубей. Так закончилась жизнь Богумила Грабала — писателя, превратившего чешское пиво в литературный жанр, а макулатуру в философию. Ирония в том, что он всю жизнь писал о падениях — социальных, моральных, метафизических — и в итоге упал сам. Но давайте не будем о грустном. Грабал бы этого не одобрил.
Он прожил 82 года, и примерно 60 из них провёл в пивных. Не потому что был алкоголиком — хотя пил он действительно много — а потому что именно там, среди пены и табачного дыма, рождались его лучшие истории. Грабал называл это «palavering» — искусство болтовни, которое он возвёл в ранг литературного метода. Пока Кафка мучился экзистенциальным ужасом в своём кабинете, Грабал записывал байки пражских алкашей и превращал их в шедевры.
«Слишком шумное одиночество» — роман, который должен прочитать каждый, кто хоть раз выбрасывал книгу в мусор. Главный герой Ганька тридцать пять лет прессует макулатуру в подвале. Звучит как описание депрессии, но на самом деле это гимн тем, кто находит смысл в абсурде. Ганька спасает из-под пресса книги, которые другие выбросили, читает их, напивается и философствует. Грабал написал это произведение трижды — в 1976, 1977 и 1980 годах — каждый раз переосмысливая, что значит быть хранителем культуры в мире, который эту культуру отправляет под пресс.
А теперь представьте: вы молодой железнодорожник во время нацистской оккупации, и ваша главная проблема — не война, не голод, не страх смерти, а преждевременная эякуляция. «Поезда под пристальным наблюдением» — это роман о том, как личные комплексы оказываются важнее исторических катастроф. Милош Грма теряет невинность примерно в то же время, когда взрывает немецкий поезд. Менжел снял по этой книге фильм и получил «Оскар» в 1968 году. Голливуд, видимо, оценил чешский юмор о сексе и войне.
«Я обслуживал английского короля» — ещё одна история о маленьком человеке с большими амбициями. Официант Дитя мечтает стать миллионером и владельцем отеля. Он проходит через войну, коммунизм, женится на немке, теряет всё — и в конце концов находит счастье в одиночестве, строя дорогу в никуда. Грабал писал этот роман в 1971 году, когда коммунисты запретили его книги. Он работал как диссидент, но называл себя просто писателем. Эта скромность — часть его обаяния.
Что делает Грабала актуальным сегодня? Мы живём в эпоху информационного мусора. Каждый день на нас обрушиваются терабайты контента, большая часть которого — макулатура в цифровом виде. Мы все немного Ганьки, пытающиеся выудить что-то ценное из потока ерунды. Разница в том, что у нас нет пресса — только кнопка «удалить». Грабал предвидел этот кризис за полвека до появления социальных сетей.
Его техника «palavering» — это, по сути, предок современного сторителлинга. Он не конструировал сюжеты по учебникам драматургии. Он слушал людей в пивных, впитывал их истории, а потом выплёскивал это на бумагу потоком сознания. Предложения у него длиной в страницу, знаки препинания — опциональны, логика — нелинейна. Для читателей, воспитанных на твиттере, это звучит как кошмар. Но попробуйте — и вы поймёте, что это единственный честный способ передать хаос человеческого существования.
Грабал никогда не был политическим писателем в прямом смысле. Он не писал манифестов и не звал на баррикады. Но его книги подрывали систему изнутри, показывая, что маленький человек со своими странностями важнее любой идеологии. Коммунисты это понимали и запрещали его. Капиталисты это тоже понимают — и издают миллионными тиражами. Такая вот диалектика.
В чешских пивных до сих пор рассказывают истории в стиле Грабала. Длинные, бессвязные, с неожиданными поворотами и без морали. Это не просто традиция — это способ сопротивления миру, который требует от нас эффективности и краткости. Каждый раз, когда вы рассказываете историю не ради смысла, а ради удовольствия от самого рассказа, вы немного Грабал.
Он умер 3 февраля 1997 года, упав с пятого этажа больницы Буловка. Официальная версия — несчастный случай при кормлении голубей. Неофициальная — самоубийство. Сам Грабал, вероятно, предпочёл бы третью версию: он просто решил проверить, можно ли летать после стольких лет ползания по пражским подвалам. Учитывая его творчество, это было бы вполне в характере.
Читайте Грабала. Не потому что это классика, не потому что так надо, не потому что через 29 лет после его смерти положено писать статьи-некрологи. Читайте его, потому что он единственный писатель, который убедит вас, что работа по прессовке мусора может быть духовным призванием, а маленькие неудачи — единственный путь к большой победе. И если после его книг вам захочется зайти в ближайший бар и рассказать незнакомцу длинную бессмысленную историю — значит, Грабал сделал своё дело.





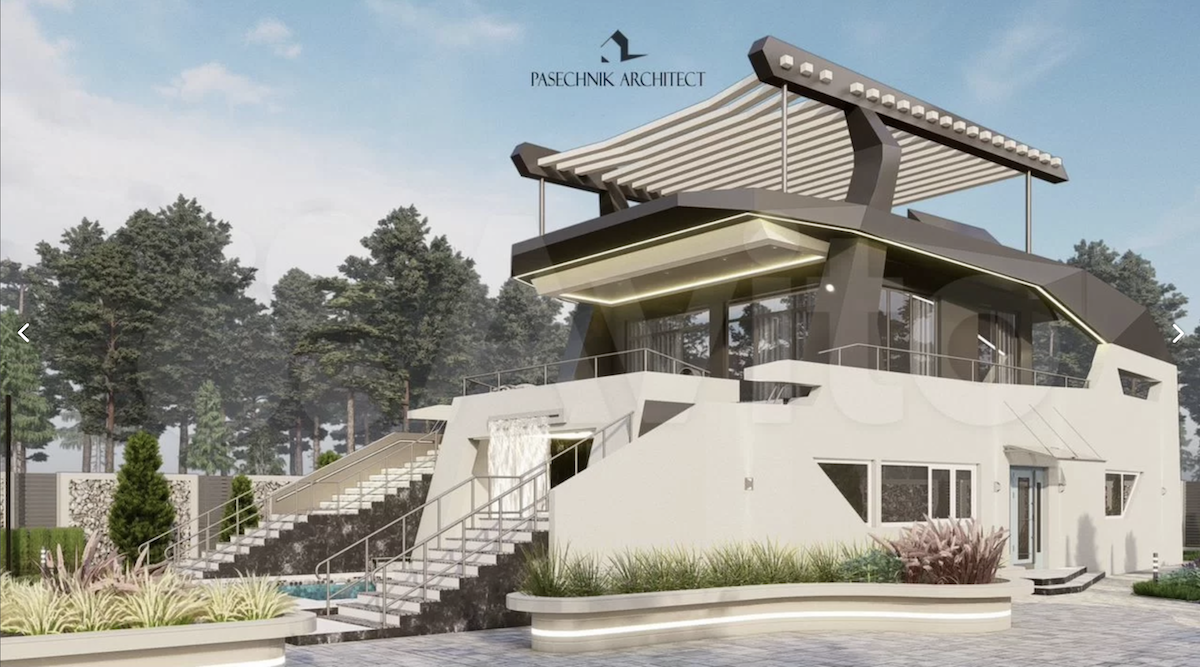




Загрузка комментариев...